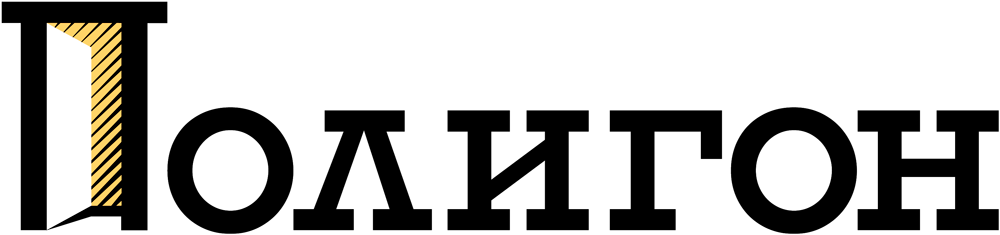Журналистка Жанна Агалакова в программе «Вдох выдох» на канале «Ходорковский live» рассказала Ренату Давлетгильдееву о жизни во Франции и своем новом документальном фильме «Придет серенький волчок».
— Хочу начать с новостей, которые очень активно обсуждают сегодня. Дело в том, что Петр Шереметьев, не знаю, знакомы вы с ним лично или нет, он живет во Франции, потомок рода Шереметьевых, ему 93 года, и он из той самой белой эмиграции, он написал письмо Путину, попросился обратно в Россию, сказал, что Франция уже больше не Франция, а вот Россия замечательная страна, а Путин потрясающий мировой лидер.
Мы знаем, что среди советской эмиграции, например, в тех же Соединенных Штатах, очень распространено любить Путина. А вот что по поводу белой эмиграции во Франции? Насколько подобные пророссийские настроения, на ваш взгляд, там заметны? И существует ли такая странная любовь к российскому диктатору среди тех, чьи предки век назад покинули Российскую империю?
— Любовь, конечно, есть. Если родители сумели передать что-то русское — я имею ввиду язык в первую очередь, потому что с поколениями это очень сильно размывалось, владение хорошим русским языком. Вот некая ответственность перед всем русским — да [есть].
Я едва приехала в 2005 году, как со мной связался человек по имени Константин Лебедев, который родился в Белграде от родителей, бежавших от коммунистов, от большевиков из России, и который всю свою сознательную жизнь прожил в Париже. И он говорил на потрясающем русском языке. И он сказал: вам, наверное, нужна помощь, вы только приехали, у нас очень сложная бюрократия, и я готов вам помогать общаться со всякими государственными структурами. Он делал это абсолютно бескорыстно, именно потому, что он считает себя русским и что я была тоже из России.
Я помню визит Путина, это был, кажется, 2006-2007 год, когда Путин приехал в Париж, и представители русской белой иммиграции, те, кто еще помнил своих родителей — а это люди были уже такого довольно зрелого возраста — родителей, бежавших из России, и те, которые сохранили память, они ведь музей даже содержали на свои личные деньги, откладывали порой от очень мизерной зарплаты значительные суммы, чтобы этот музей был в безопасности, чтобы он был в надлежащем состоянии и так далее, и они хранили там настоящие сокровища, исторические. И я помню, как они с недоверием относились к Путину и ко всему русскому. Все равно барьер существовал, и все равно они понимали, что это потомки тех, кто отнял у нас все, это не та Россия, которую мы покинули.
Поэтому, возвращаясь к вопросу, эти самые эмигранты первой волны, они все-таки немного разные, и надо учитывать возраст Шереметьева, 93 года — это довольно много. Конечно, всякому человеку хочется, чтобы на его исторической родине все было хорошо, и чтобы родина была великой, чтобы можно было ею гордиться. В 93 года, наверное, свои представления об этой гордости. Будь он помоложе, читая газеты, и не только советские, но и смотря французское телевидение и французские печатные СМИ, может быть, у него сложилось бы другое мнение.
— Существует во Франции, в Париже, некое противостояние, так скажем, культурных центров? Мы знаем про важный культурный центр, который был построен на берегу Сены, который курируется Российским посольством. Сейчас появляются новые культурные центры, точки притяжения уже новых уехавших, тех людей, которые бежали от войны. В Париже работает Reforum, и буквально пару недель назад ребята проводили большой фестиваль, который объединял новых уехавших. Вот эти центры притяжения, они как-то друг с другом соревнуются за французских русских?
— Нет, конечно, они никак не соревнуются, потому что они друг другу совсем не конкуренты. Тот центр на берегу Сены, который вы упомянули, я помню историю, как это место Российская Федерация получила — он огражден огромным забором, и чтобы туда попасть, нужно нажать кнопочку, нужно сказать, кто ты, зачем ты идешь. Это как будто ты идешь, не знаю, в паспортный стол в старые времена. Сейчас, по-моему, существует одно окно, МФЦ, сейчас уже проще. А вот в старые времена был паспортный стол, где нужно было пройти сначала шлагбаум, сказать милиционеру постовому, куда ты идешь, зачем ты идешь, показать свой паспорт, он сделает с него копию, и вся эта история. Так вот, это все, все эти советские привычки, они остались, они присутствуют вот в этом самом центре.
Что касается Reforum, то это классное место свободных людей. Они соблюдают свои меры безопасности по понятной причине. Я туда завтра собираюсь, у них там завтра будет очередное мероприятие, пишут письма политзаключенным, я стараюсь эти мероприятия не пропускать. И там бывает гораздо больше людей, даже нежели на каком-то мероприятии вот в том самом центре на берегу Сены. Там иногда показывают фильмы, на которые никто не ходит, кроме посольских, и даже церковь, которая считается как бы главным зданием во всем этом комплексе, она тоже пустует зачастую, люди предпочитают ходить в совсем другие религиозные заведения.
— А вот тех французских русских, кто уехал давно, кто является потомками белых иммигрантов, или те, кто уехал уже в советское время, вот этим новым центрам, которые появились в связи с войной, удается их привлекать к себе? Условно говоря, люди постарше приходят в Reforum?
— Нет, я не замечала этого. Мне кажется, люди, которые уехали давно, они уже ассимилировались. Для того, чтобы выживать, ты должен как-то пустить корни там, должен находить французское окружение или окружение той страны, куда ты уехал, должен изо всех сил изучать язык и, в общем, переходить на этот язык. Я познакомилась с одной парой, которые уехали в 80-е годы, и они запретили себе между собой разговаривать на русском языке, они говорили только по-французски между собой. С огромными ошибками, со смешным поначалу славянским акцентом, но им было очень важно интегрироваться. И мне кажется, это вот как раз тот самый рецепт выживания в любой другой стране.
— Хочу поговорить про фиксацию российской пропаганды на Эммануэле Макроне и на Франции в целом, потому что, как мне кажется, после смены хозяина Белого дома таким олицетворением страшного Запада для России и для пропагандистов стал именно Макрон. Например, на этой неделе две самые многотиражные газеты России “МК” и “Аргументы и Факты” вышли с большими публикациями на чудовищную тему под названием «Врач, который совершил операцию по смене пола жены Макрона, покончил с собой». То есть уровень бреда просто зашкаливающий, но никто же миллионам читателей не объяснит, что это фейк. А чем вы объясняете вот такую фиксацию, причем грязную фиксацию и на Макроне, и на его личной жизни российских пропагандистов?
— Начнем с того, что грязного в нашей политике очень много, я даже не знаю, чего там чистого. Начиная с войны и заканчивая, ну вот, не знаю, этими нападками на супругу французского президента, мне даже не хочется это комментировать. Я помню, как еще до войны, когда была вброшена эта новость, из посольства звонили из отдела, который занимается связями с общественностью, с просьбой не муссировать эту тему вообще. Хотя дорогая редакция хотела это делать. Но там сказали: вы знаете, если просто вы будете это говорить, нам отрежут все связи, потому что это бред, — говорили нам в посольстве. Это было незадолго до войны, и я не думаю, что люди в этом посольстве очень сильно поменялись с тех пор.
Но вот видите, дискурс сменился. Почему это происходит? Потому что Макрон, за ним, что называется, не заржавеет. Он умеет отвечать и Путину, и Трампу. Эти два человека не привыкли, чтобы с ними так разговаривали. Макрон смеет. И я, признаться, очень ему за это благодарна.
— Еще одна очень популярная тема у российских пропагандистов, это наступление на свободу слова и свободу выборов во Франции. У себя в стране они ничего не замечают, а во Франции решили заметить «репрессии» в отношении Марин Ле Пен и правых сил. И очень много об этом говорят. Что, мол, пытаются французы нас учить, как быть со своей внутренней политикой, а сами самую популярную силу в собственной стране фактически запрещают. Что происходит с этим противостоянием Макрона и правых во Франции? И во всем ли неправа российская пропаганда с точки зрения вот этих «репрессий» в отношении Марин Ле Пен?
— Ну, я бы не считала это репрессиями, потому что факт подтасовки в каких-то финансовых делах и в деятельности той партии, которую она возглавляет, он установлен. Поэтому все остальное просто в рамках Уголовного кодекса Франции, в рамках Конституции. Нарушил закон, ну, получай ответ.
Она ведь не то чтобы навсегда лишена возможности избираться и продолжать свою политическую деятельность, там есть ограничения. Что касается того, нет ли здесь здравого зерна, в смысле наступают на свободу слова и выбора — не знаю, я так не чувствую, я так не думаю.
— А российская пропаганда, она вот так вот защищает Марин Ле Пен по привычке, считая ее, так скажем, пропутинским политиком в Европе? И вообще, насколько этот тезис, что Марин Ле Пен пропутинский политик, близок к действительности?
— А вы не знаете, сколько денег Кремль влил в Марин Ле Пен? Я не помню, к сожалению, цифру, но уверена, что денег было немало. Конечно, это лоббирование. Оно, в принципе, характерно в первую очередь для американцев. Там лобби — это вполне официальная роль деятельности. Путин тоже лоббировал, чтобы в Европе во главе очень сильной, одной из сильнейших стран был человек, который, в общем, разделял бы его интересы или его философию.
— А в целом Франция встраивается в этот тренд правеющей Европы? Потому что мы наблюдаем рост популярности правых сил в самых разных европейских странах. Франция тоже правеет? Или во Франции этот вопрос не столь острый? Левые силы всегда же традиционно были во Франции сильные. Франция не сильно правеет? Это как в рамках погрешности? Или все-таки вы замечаете тенденцию?
— Нет, это не в рамках погрешности. Франция действительно правеет, это можно следить по результатам выборов. Народный фронт поднимается все выше и выше, я имею в виду по цифрам, по рейтингам, по числу набранных голосов. И даже в парламенте это тоже, в общем, довольно заметно. Это объясняется глобализацией. Вот эта мощная волна миграций, которая произошла с 15-го года, я имею в виду в Европе, конечно. Началось все гораздо раньше, но в Европе особенно заметно это стало в 15-м году, когда гигантская волна эмигрантов из так называемого Магриба, из севера Африки, а также из Сирии, из Турции вдруг двинулась на европейский континент. И этих людей нужно было приютить, нужно было как-то обустроить. Волна не заканчивалась. Это требовало огромных денег, которые брали, конечно, из всяких социальных, из разных бюджетных карманов. И это в конце концов стало ощущаться. Люди стали возмущаться: эачем чужаки? Почему их мы кормим, поим и как-то обустраиваем? А мы? А как же мы?
Так что, в принципе, это как бы законные вопросы, законные ответы. Но позиция, скажем, таких стран, как Венгрия, которая закрылась изо всех сил, дверки свои захлопнула, никого не пущу, никогда и никуда — это тоже позиция, не отвечающая европейским ценностям.
Та волна иммиграции, которую пережила и которую попыталась переварить Европа и переваривает до сих пор, она была огромной. И я думаю, что Европа к ней не была готова. Спасибо американцам, что они устроили вот этот весь исход гигантский. Я имею ввиду бомбежки и так далее.
Европа правеет везде. И, к сожалению, Франция тоже. Но тех, кто не считает так, как партия Марин Ле Пен, во Франции все же больше.
— Во Франции такая же ситуация, как, условно говоря, в Германии, где есть супер-левый центр и правеющая провинция? Условно говоря, левый Париж и французская деревня, которая симпатизирует Марин Ле Пен.
— Ну, не вся французская деревня симпатизирует Ле Пен. Это скорее ее вотчина, это, скажем, Пикардия. Это тот север, который смотрит на Великобританию, потому что оттуда мигранты отправляются, хотят, вернее, перебраться на Туманный Альбион.
И там гигантские лагеря беженцев, которые как-то влияют на местную жизнь. И вот люди там голосуют в своем большинстве именно за правый фронт, именно за крайне правых.
Ну и есть на юге тоже такие состоятельные места, где люди, как правило, богатые, боятся потерять богатство, и они против чужих, против бедных. А мигранты всегда бедные, всегда чужие. Они приходят со своей культурой, со своими бедами, болезнями. Так вот, там, конечно, да, тоже против.
Но центр, Париж, в первую очередь, они, конечно, левые в большинстве своем.
— Давайте мы тоже в Великобританию переместимся. «Десять лет назад, когда мы все затевали, мы даже не представляли, что нас ждет», — написали вы в фейсбуке про премьеру документального фильма «Придет серенький волчок». Показ прошел в Шеффилде, на документальном фестивале, неасколько я понимаю, это один из крупнейших документальных фестивалей мира. То есть, если вот в художественном кино есть Венеция, Берлин, Канны, то в документальном есть Шеффилд, Амстердам. Расскажите про фильм и про эти десять лет.
— Ну, десять лет назад мы начали снимать. Снимали мы очень медленно. И работа над фильмом шла только поначалу всего лишь в виде съемок. Мы набирали материал. Поскольку я не могла погружаться в работу над тем материалом, который мы отсняли. У меня была основная моя работа. Я работала в то время на Первом канале. А все-таки работа над фильмом, это действительно требует погружения, осмысливания, медленного, вдумчивого, подробного. У меня не было этого времени. Поэтому во время отпуска мы ездили, снимали. А вот работа над фильмом началась уже после войны, когда я ушла с Первого канала.
На самом деле всему виной New York Times. Заметка в New York Times, которую прочитал мой муж. Прочитал он ее в четырнадцатом году, в мае четырнадцатого года, как сейчас помню, да. И там было написано, что двадцать лет назад Александр Солженицын вернулся из эмиграции в Россию. И дальше напоминают, как он возвращался.
Возвращался он медленно. Ехал со востока на запад в течение двух месяцев. Останавливался во многих городах. Встречался с людьми, потому что хотел из первых рук узнать, что случилось, как живет страна. Ведь он уезжал, вернее, его выпинывали из страны, его лишили гражданства в семьдесят четвертом году, был еще Советский Союз. В девяносто четвертом Советский Союз уже распался, уже была демократическая Россия. И муж мне сказал: давай мы тоже съездим. Посмотрим, как это, вот столько времени прошло.
Но в четырнадцатом году мы не смогли поехать, потому что все-таки такие поездки надо готовить. Да и я не была к этому готова. Я имею в виду чисто вот психологически, это же совсем другой род деятельности. Одно дело снимать репортажи, другое дело снимать документальное кино. А вот в пятнадцатом году мы отправились.
И я сначала связалась со вдовой Солженицина, с Натальей Дмитриевной. Она переправила меня к сыну Ермолаю, который сопровождал отца всю дорогу, все два месяца. В принципе вся семья на разных этапах присутствовала, но Ермолай был вот на протяжении всего пути вместе со своим отцом. И он мне дал список тех городов. Он помнил его на память, удивительно, сколько лет прошло. Вот что они посетили, где они останавливались.
И в общем так я составила маршрут. И потом стала искать людей на месте, кто помнил, кто знал, кто бывал. Нашла полтора человека.
И поэтому идея Солженицина довольно быстро отпала. На самом деле я стала думать: а вот Ермолай интересный персонаж. Ему четыре года было, когда они уезжали из Советского Союза. И он, наверное, про Россию ничего не помнит. А вот зато в Америке, где большая часть времени прошла, дома у него был великий русский писатель. Приезжали великие русские мыслители, философы, какие-то деятели важные. И они все говорили про Россию, о России. И, наверное, в голове у него выстраивалась такая идеальная Россия. И вот он увидел реальную, и как оно это было?
А потом однажды, я подумала, что Сибирь мы должны увидеть зимой. Мы были в маленьком городе посреди Сибири, была зима, падал снег. Дочь моя, которой было 13 лет, она была с нами все это путешествие. Я очень хотела, чтобы она увидела Россию, потому что она ее почти не знала. И я подумала, что она же как Ермолай. Ей было три года, когда я уехала в корпункт в Париже в 2005 году. И, в общем, всю свою жизнь она прожила где-то. А двинулись мы, кстати, в это путешествие уже из Нью-Йорка, а не из Парижа.
И вот она лежит и мучается в маленькой гостинице. Я говорю: устала? Да, хочу в Нью-Йорк. Тут вай-фая нет, ничего тут нет, жизни нет. Вот если бы в Красноярске было больше снега, то было бы как в Норильске. А Братск выглядит как Красноярск, только Братск хуже.
Я говорю: мы сейчас в Усть-Илимске. Она говорит: в Усть-Илимске и Братске одно и то же. И я подумала: о, да Ермолай же есть у меня вот в семье!
И я стала за ней наблюдать. Но это было только начало истории на самом деле. То есть мы ехали поначалу снимать одно, потом стали медленно разворачиваться в другую сторону, а в итоге сфокусировались на третьей.
— И что это за третья история? По большому счету, это кино про вашу дочку и про Россию в ней?
— По большому счету, это кино про меня. Это про меня, про путь журналиста, который в 90-е годы… Я закончила университет в 91-м году, через несколько месяцев распался Советский Союз, мы были последним советским курсом. И мы стали такими не советскими журналистами, а российскими журналистами. И это были 90-е, и это было рекордное количество СМИ на душу населения в нашей стране. Действительно рекордное. И обсуждали все темы, и все проблемы. И у каждого был голос, а потом это все ушло неизвестно куда, в нулевые. Потом это все как-то обратилось в денежные знаки, в какие-то материальные блага. И свобода слова, как шагреневая кожа, начала сужаться, пока в конце концов совсем не исчезла. И вот примерно об этом фильм. Но не так буквально, конечно.
— Как встречали в Шеффилде это кино, насколько оно было адекватно воспринято в политическом контексте? Было сложно вообще говорить на русском языке с этой аудиторией сейчас, когда идет война?
— Ну, говорила я с ней на английском, сложностей не было. Хотя там в зале были и российские люди, вернее, те, кто уехал из России по разным причинам после войны или до войны. Русских было немало. И, кстати, эти русские плакали больше всего.
Сложно было попасть, в принципе, на фестиваль с такой темой, вообще с темой России. Можно это назвать culture cancelling, такой отменой культуры. Но мне кажется, это была совершенно такая объяснимая и логичная реакция такого мирового культурного сообщества на страну-агрессор.
Я была просто счастлива, что нас взяли в Шеффилд. Это действительно пятерка крупнейших и самых репутационных фестивалей документального кино в мире. Люди воспринимали очень хорошо. У нас был солд-аут, у нас был полный зал, аншлаг. У нас было два показа всего. У всех конкурсантов было два показа.
Мы были в конкурсе «Первый документальный фильм», потому что для меня это первая работа. Я посмотрела все работы, которые с нами конкурировали. Они были все замечательные, очень сильные работы. И несмотря на то, что мы не взяли приз, из сотен фильмов выбрали восемь. Из этих восьми один мой. Я просто счастлива.
А победила картина гватемальской режиссерки про одну фавелу, в которой девушки решили объединиться против насилия. Это такое очень мачистское общество, вот эта латинская Америка. Объединиться против того, чтобы не бояться вечером выходить на улицу, чтобы не распускали руки мужчины. И вообще, чтобы женский голос был услышан в этой самой фавеле. И в общем, прекрасное, очень важное и нужное кино. Я рада, что они победили.
— Да, замечательная история. Вы сказали про то, что плакали русскоязычные зрители. А плакали почему? По России, которой больше не будет никогда?
— Нет, не совсем так. Там очень личная история. Я рассказываю про себя, про историю своей семьи, которую никогда прежде не рассказывала никому. Не рассказывала даже моему мужу. Это такие секреты, которыми мне было трудно с кем-то делиться. Мне казалось, что этого не должно быть.
А потом, после как-то осмысления, я поняла, почему мы молчим и не обсуждаем наши проблемы. Я считаю, что это огромная беда для всех, для нас. Мы боимся обсуждать проблемы, мы боимся в чем-то признаться. Для нас coming out, например, это крайне редкое событие и переворачивающее всю твою жизнь, часто в плохую сторону, потому что мы не привыкли обсуждать эти проблемы. И вот эта вот затычка такая во рту, я боюсь об этом говорить, потому что стыдно. Потому что еще в советские времена нас приучили быть идеальным человеком. Не приучили, а нам говорили, что мы должны быть идеальными людьми. У нас же нет проблем. Включите телевизор, новости, там же все хорошо, там же нет проблем. Там сидит вот это ваше сиятельство, сияет оттуда из Кремля. А все остальное, это только проблемы только где-то там, на Западе, но не в России. В России проблем нет. А если они случаются, то даже в верстке их не ставят рядом с Путиным, их ставят подальше, чтобы не было никакой прямой связи, потому что у нас все должно быть хорошо. И «русский это звучит гордо» — это очень смешно, это очень жалко и это очень горько, потому что это не помогает, это не делает жизнь ни страны, ни людей лучше. Вот и размышляя так, я как-то пыталась раскрутить эту историю с молчанием, с боязнью обсуждения проблем, выноса их на общее обсуждение и вот почему-то дошла до вот этой колыбельной про серенького волчка, который придет и утащит. Но ты, деточка, молчи, лежи тихо, спи и ни в коем случае не ложись на край.
— Вы знаете, я когда думаю о том, какие самые страшные, но одновременно самые счастливые дни в моей жизни, это день, когда я сделал камин-аут в журнале «Афиша» и день, когда я показал в кинотеатре «Октябрь» в Москве документальный фильм «Зависимость», в котором я рассказал про свою наркозависимость и то, как я из нее выходил. Мне было очень страшно, но потом стало очень хорошо. А вам стало легче после того, как вы, преодолев этот стыд, про который собственно и фильм, видимо, про все рассказали? Освобождение какое-то?
— Я прям очень вас понимаю, потому что я испытала точно то же самое. Это было очень терапевтически. Я рассказала про мою беду, про семейную беду, которую скрывали все. Мне было трудно об этом говорить. Но рассказав, правда, такое облегчение наступает. Я сейчас рассказываю об этом только потому, что очень надеюсь, что ваши зрители увидят мой фильм. Поэтому не хочу спойлерить. Но это освобождает. Это освобождает.
— А когда можно будет посмотреть кино и где?
— Сейчас уже могу сказать. Следующий фестиваль будет в Хорватии во второй половине июля. 26-го, кажется, числа.
Я не помню название фестиваля. Он очень небольшой. И мы не в конкурсе, а это просто показ. Я очень рада. Я обязательно в соцсетях повешу и время, и место, где это будет.
Потом у нас еще один фестиваль. Пока не могу говорить, где. Потому что сначала по правилам фестиваля они должны официально вывесить программу. Там уже мы будем в конкурсе.
Но это тоже Европа. Потом мы подали на разные другие фестивали и тоже ждем ответа. Так что у нас пока сейчас фестивальный период, такой медовый месяц фестивальных показов. Но потом, я думаю, что это дойдет и до широкого зрителя.
— Фильм на русском?
— Хороший вопрос. Фильм на четырех языках. На русском, итальянском, английском и французском. Потому что итальянский — это семейный язык, мой муж итальянец и моя дочь, котлорая там основной персонаж, который заводит конфликт, она много говорит там на итальянском языке. Есть английский язык, потому что какая-то часть фильма происходит в Нью-Йорке. И французской язык, потому что дочь моя в то время ходила во французскую школу и там есть несколько эпизодров на французском языке. Но есть субтитры и во всех странах, где это будет показываться, субтитры будут на языке той страны, где это будет показываться. Так что это будет понятно всем.
— Очевидно, что ваша семья этот фильм видела и дочка видела. Для нее это тоже какое-то сильное переживание?
— Ой она плакала, она сказала: мама, неужели я была такая плохая? Потому что мы снимали ее, когда она была в таком переходном возрасте, 13-15 лет, и она там зажигала будь здоров как. Я говорила: деточка, ты просто ангел, ты не знаешь, какая я была.